Детство в Огородниках. Москва 1-й четверти XIX в.
Глава «Москва детства» приводится по изданию: Шкловский В.Б. Повесть о художнике Федотове. — М.: ТЕРРА—Кн. клуб, 2001. — С. 7-15.
ПОВЕСТЬ О ХУДОЖНИКЕ ФЕДОТОВЕ
МОСКВА ДЕТСТВА
(отрывки)
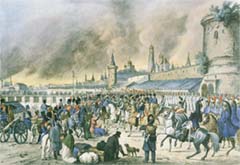 Прошел грозный 1812 год; сгорела деревянная Москва, обуглились в ее садах деревья. Высокие, украшенные изразцами церкви закопченными стояли среди пустырей.
Прошел грозный 1812 год; сгорела деревянная Москва, обуглились в ее садах деревья. Высокие, украшенные изразцами церкви закопченными стояли среди пустырей.
Кремль и со взорванными стенами и с полуразрушенными башнями возвышался над городом. Рядом с колокольней Ивана Великого рухнула пристройка; колокольня как будто еще выросла — задымленная, лишенная креста. На широкой черной площади, около полуразрушенных кремлевских стен, среди гари пестрел куполами храм Василия Блаженного.
Но заново строили университет, крыли железом барские дома, восстанавливали башни Кремля, собирали бумаги, разбросанные взрывом Арсенала.
Москва строилась.
Из далеких походов через Триумфальные ворота возвращались войска.
Снова зацветали опаленные сады, вокруг них строили новые заборы; на Москве-реке стояли суда, нагруженные хлебом и дровами.
 По старым дорогам возвращались люди в Москву, возводили дома на старых местах. Новая, послепожарная Москва не была похожа на старую! Она была не похожа своей новой гордостью, тем, что она видела весь мир, и мир ее видел.
По старым дорогам возвращались люди в Москву, возводили дома на старых местах. Новая, послепожарная Москва не была похожа на старую! Она была не похожа своей новой гордостью, тем, что она видела весь мир, и мир ее видел.
Зимой по-прежнему падал снег. Весной зацветали цветы в расширившихся после пожара садах.
Москва сгорела и построилась, над ней снова засверкали купола. Они как будто засветились неугасшим пожаром.
В Москву со всех сторон тянулись люди и оставались в городе. Был обычай, что человека хоронили в Москве на кладбище у той заставы, через которую он вошел в великий город.
Так Москва и в жизни человека и в смертный его час связана была с бесконечной Россией — с русскими полями, лесами, огородами, небыстрыми реками…
…Большие облака плыли над маленькими домами, над каменными сквозными колокольнями.
Затейливые вывески висели на углах.
Здесь улицы не мели и траву не вытаптывали.
Про старую Москву говорили, что это не город, а собрание городов: все, опоясанное кольцом бульваров, могло быть названо столицей; обширный Земляной город похож был на город губернский, а дальше шли уездные городки, слободы, посады и села.
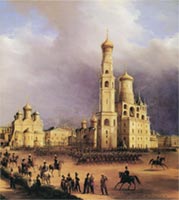 На окраинах Москвы стояли дома с полями, фруктовыми садами, с разливом нечистых и небыстрых речек.
На окраинах Москвы стояли дома с полями, фруктовыми садами, с разливом нечистых и небыстрых речек.
Москва зарастала, затягивалась заборами, садами, огородами.
В Огородниках редко стояли дома с гербами на фронтонах, с каменными воротами, на которых красовалась надпись, гордая и спокойная: «Свободен от постоя».
Это значило, что хозяин дома человек большой и к нему солдат на постой ставить нельзя.
Больше здесь было домов людей нечиновных.
В палисадниках таких домов — веревки, на веревках разноцветное полосатое и цветастое белье.
Такие дома от постоя свободны не были.
Внутри домов, свободных от постоя, стояли мебели красного дерева, обитые штофом, или по крайней мере мебели со спинками, обитыми штофом, и с сиденьями, обитыми другой материей, но под цвет.
В домах, несвободных от постоя, были тростниковые стулья и на окнах разрасталась заграничная новинка — цветок герани. На стене деревянные часы с узорчатым циферблатом, в простенке между окон — ломберный стол с покоробленной верхней доской, у двери, расписанной под красное дерево, высокий шкап, на шкапу гипсовые зайчики канареечного цвета с красными ушами и деревянный большой, раскрашенный по форме солдат.
Павел Андреевич Федотов родился в таком весьма небогатом доме; отец его, офицер из солдат, чин имел ничтожный…
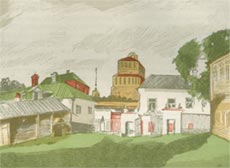 На Москве-реке стояли плоты, и вечерами видны были по всем берегам огни — то плотовщики варили кашу. Пахло свежим деревом, как будто строили тысячи кораблей…
На Москве-реке стояли плоты, и вечерами видны были по всем берегам огни — то плотовщики варили кашу. Пахло свежим деревом, как будто строили тысячи кораблей…
Зима в тесных горницах маленького дома на Огородниках казалась печальной и долгой; в комнатах царила тишина. Окна доверху покрывались ледяными деревьями и листьями, от жарко натопленной печи было угарно; против угара употребляли средство — вносили в комнату тарелку со снегом: говорили, что снег вбирает угар.
В морозы катались с горки на доске, обмазанной навозом и обмороженной. Катались и на обмороженном решете, но в решето садились только девочки.
Весна начиналась с грязи и с луж, потом на высокие деревья около церкви Харитония с криком прилетали грачи. Во всю ширину улицы стояли лужи, и в них отражались деревья, заборы и невысокие дома. Около луж чирикали и плескались, умывались, воробьи. Если взять щепку, то можно раскопать канавку, лужа убегает; она бежит в ручей, который течет туда, вниз, к Каланчевке. Вместо лужи остается грязь, и по грязи можно шлепать босыми ногами…
Весной на лугах появлялись цветы, пестрые, как детвора: колокольчики, клевер, ромашка; в саду вырастала зоря с блестящими перистыми листьями, с гладким стеблем, из которого делали дудочки.
Интересно было в городе. На площадях стояли раешники; они вертели ручку райка, приговаривая:
— По копейке! По копейке!
Раек похож на маленький домик, поставленный на легкий раскидной столик; домик покрыт двускатной крышей, а на передней стенке сделаны четыре круглых окошка: через них смотрели внутрь райка.
 Раешник — обычно человек молодой, в высоком картузе, в нарядном, хотя и поношенном кафтане.
Раешник — обычно человек молодой, в высоком картузе, в нарядном, хотя и поношенном кафтане.
Раешник оживлен и сладкоречив.
Дети стояли в стороне: копейки не было.
Объяснения при смене картинок, соединенных вскладень, давали в рифму…
Москва любила говорить, петь, рисовать. Дети шли в Китай-город, выходили на Красную площадь, считали купола церкви Василия Блаженного, бродили между торговыми рядами. В дощатых палатках пестрели лубки на веревочках. На лубках — войны, победы, генералы, и рядом картина о том, как мыши кота хоронили. Все картины с надписями. Их можно долго рассматривать. Здесь же предлагали купить лаковые табакерки с разными рисунками, с портретами Кутузова, Багратиона, Платова. А больше всего было рисунков, изображающих пожар Москвы.
…Говорили и хвастались в старой купеческо-мещанской Москве многим: точеной посудой, табаком, лаковыми табакерками, Василием Блаженным и Царь-пушкой.
Была молва, что та пушка одним выстрелом могла побить всех французов, но не посмели из нее стрелять, потому что выхлынула бы Москва-река из берегов и затопила бы весь город.
На Москве-реке скрипели причалами баржи, черные снасти темнели на синем небе.
Шло лето. Сады отцветали, наливались ягоды; потом по улицам начинали ходить обручники — по всему околотку раздавался стук набиваемых на кадки новых дубовых обручей. Обручник — старый солдат; набивает обручи и рассказывает о Берлине, о Париже, о дальних походах, мягких, пыльных дорогах и о дорогах кирпичных, о победах, поражениях.
Кончалась работа обручника — начинали парить кадки: это значило, что скоро поспеют огурцы…
 На больших рынках стояли возы с сеном; воз взвешивали на огромных весах и везли домой. Воз с сеном шумит в воротах, задевает вереи сухой травой, въезжает во двор.
На больших рынках стояли возы с сеном; воз взвешивали на огромных весах и везли домой. Воз с сеном шумит в воротах, задевает вереи сухой травой, въезжает во двор.
Сено дают попробовать корове, и отец, который покупает сено сам, волнуется так, как будто принес важную бумагу на подпись самому директору департамента. Корова ест, в ее голубых глазах отражаются многокупольная церковь и маленький дом.
Сено вилами бросают на сеновал. Теперь можно забраться в сенник и оттуда смотреть, как военачальник с горы; с сеновала видна сизая, старая Сухарева башня и другая, ближняя, белая — Меншиковская; ее зовут «невестой Ивана Великого».
У огородников покупали огурцы. Огурцы мыли, готовили рассол, клали в рассол чеснок и дубовые листья, для того чтобы огурцы были крепкими. Поспевали яблоки, начинал желтеть и падать лист.
Поспевали яблоки, начинал желтеть и падать лист.
На дворах устанавливали чудовищных размеров корыта, рубили капусту стальными сечками, и тут начинались в Москве песни.
Капусты много, ее нельзя рубить без песен. Во всех дворах слышен один и тот же стук, а песни разные.
Пухлые, сочные листья превращаются в мелкие прядки. На полуизрубленные листья насыпают крупную соль, мягкий звук сечек сменяется царапающим: это соль попадает под сечку. Ели в доме много и просто…
Когда Павел Андреевич потом вспоминал Москву своего детства, она представлялась ему золоченым, пестрым донышком точеной деревянной чашки.
Триумфальные ворота, сооруженные в честь победы русских войск над Наполеоном в 1814 году, были сначала деревянными. В 1827-1834 гг. их изваяли из камня по проекту архитектора О.И.Бове. Через сто лет, в 1936 году, этот памятник русской славы был разобран. А в 1968-м — снова возведен на Кутузовском проспекте, недалеко от Музея-панорамы «Бородинская битва».
Земляной город — при Борисе Годунове, в 1592-1593 гг., Москву обнесли земляным валом с деревянной стеной. Более сотни башен с пушками на них защищали город. В Смутное время деревянные стены сгорели, а земляной вал остался, и по нему все укрепления и постройки внутри стали называть Земляным городом. Более века спустя, когда Москва расширилась, стены и башни, уже ненужные, стали разрушаться. После пожара 1812 года вал был окончательно снесен, засыпан и на этом месте вокруг Москвы проложена улица из домов, окруженных палисадниками. Так возникло Садовое кольцо. А память о прошлом хранит название улицы — Земляной вал.
Огородники — когда-то, еще в XVII веке, Огородная слобода снабжала овощами царский двор. По старинной церкви Харитония в Огородниках стали называться переулки — Большой Харитоньевский и Малый. В этих местах прошло раннее детство не только П.А.Федотова, но и А.С.Пушкина, В.Ф.Одоевского, А.В.Чаянова.
…считали купола церкви Василия Блаженного — Покровский собор, или храм Василия Блаженного, возвели на Красной площади в честь взятия Казани войском Ивана Грозного. Храм строили Посник Яковлев и Барма в 1555-1561 гг. В 1588 году к собору была пристроена церковь Святого Василия, по имени которого народ и стал называть храм. Каждый из восьми приделов его посвящен святому угоднику, с именем которого связано событие во время осады и взятия Казанского царства в 1552 году.
…старая Сухарева башня прозывалась так по имени Леонтия Сухарева, стрелецкого полковника, который нес службу у Сретенских ворот Земляного города. Полк Л.П.Сухарева единственный остался верен молодому государю Петру Алексеевичу во время стрелецкого бунта. В 1692-1695 гг. Петр I построил на месте деревянных ворот большую каменную башню-ворота. В ней открыли «Школу навигацких и математических наук». А на самом верху сподвижник Петра Яков Вилимович Брюс устроил астрономическую обсерваторию. Он наблюдал по ночам звезды и планеты, и огонь в башне не гас до утра. Народ, как водится, считал его колдуном.
Одно из красивейших зданий старой Москвы — Сухарева башня на Сретенке — была снесена в 1934 году.

