
«Нет сомнения, что “Свадьба Фигаро” — гениальное произведение и единственное на французской сцене. В ней всё живо, всё трепещет, пышет огнём, умом, критикой и, следовательно, оппозицией» (А.И.Герцен).
«Это отвратительно. Если быть последовательным, то, допустив постановку этой пьесы, следует разрушить Бастилию. Этот человек смеётся надо всем, что следует почитать при известном образе правления» (Людовик XVI).
«Министры Людовика XVI нисходят в арену с писателями. Бомарше влечёт на сцену, раздевает донага и терзает всё, что ещё почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет» (А.С.Пушкин).
«Я скажу вам, дорогие мои современники, что не знаю ни другого века, когда я предпочёл бы родиться, ни другой Нации, к которой мне было бы приятней принадлежать. Не говоря уж о том, сколь любезно французское общество, я обнаруживаю в нас последние двадцать или тридцать лет единое стремление возвеличить мысль полезными изысканиями, добиться всеобщего счастья силами разума. Дух Нации переживает некий счастливый кризис: яркий, всепроникающий свет будит в каждом ощущение, что всё доступно совершенствованию. Повсюду беспокойство, деятельность, поиски, реформы…» (Бомарше).

Первая книга — сборник рассказов «Самый лучший возраст» — вышла в 2011 г. в издательстве «Астрель-СПб». Однако по-настоящему популярной стала вторая книга Ирины Зартайской «Все бабушки умеют летать» (издательство «Фордевинд», 2012 г.). Для этой книги было отобрано 22 художника, каждый из которых воплотил своё представление о бабушках. После книги «Все бабушки умеют летать» Ирина Зартайская начинает активно публиковаться в разных издательствах. У неё выходят как книги-картинки, рассчитанные на дошкольный и младший школьный возраст, так и повести для подростков. По книге «Подарок для мышки» были поставлены спектакли в театре «Кот Вильям» (Санкт-Петербург, 2019 г.) и театре «О’Город» (Москва, 2019 г.).
В 2015 г. Ирина Зартайская стала членом Союза писателей Санкт-Петербурга (создан в 1991 г., является преемником Ленинградского отделения Союза писателей СССР).
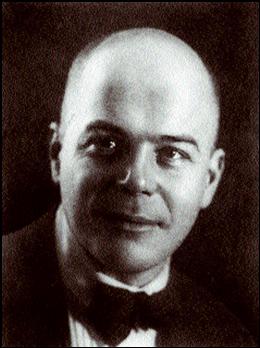
«Идя всё время впереди полка, он прошёл 4 ряда проволочных заграждений, 2 ряда окопов и переправился через реку под действительным ружейным, пулемётным и орудийным огнём, ведя всё время за собой полк и всё время подбадривая его примерами и словами. Будучи ранен у последнего проволочного заграждения в живот навылет и видя, что полк дрогнул и хочет отступать, он, Шкловский, раненый, встал и отдал приказ окапываться» (из военного приказа от 5 августа 1917 года, Юго-Западный фронт).
Георгиевский крест «он, Шкловский», получил лично из рук генерала Корнилова.
Трудно даже представить себе, что речь идёт о том самом человеке, которого уже несколько поколений читателей привыкли знать как тонкого исследователя, классика отечественного литературоведения и создателя нового взгляда на сам процесс творчества. Оказывается, прежде чем всё это состоялось, молодой Виктор Шкловский не только прославился на фронтах первой мировой войны, но успел побыть эсером, принял участие в антисоветском заговоре, скрывался, убегая от преследования, в провинциальном сумасшедшем доме, какое-то время воевал в рядах Красной армии, в 1920 году стрелялся на дуэли, бежал от политического преследования по льду Финского залива, прыгал на ходу с поезда, переодевался в австрийского пленного… Однако при всём при этом неустанно, можно сказать, неотвратимо делал своё главное дело. Ещё в гимназии писал не только прозу, но работы по теории прозы. В двадцать лет в той самой знаменитой «Бродячей собаке» читал доклад «Место футуризма в истории языка», а в том самом безвестном сумасшедшем доме тайком работал над книгой «Сюжет как явление стиля».
Наследие Шкловского огромно и расположено в самых разных сферах жизни творческого слова: в области литературоведения, литературной критики, прозы, публицистики, кинематографа и даже телевидения. С этого пиршественного стола детям тоже кое-что перепало. Старшие вполне могут осилить, если захотят, 863 страницы биографии Льва Толстого из серии «ЖЗЛ» и любопытнейшие мемуарные записки «Жили-были». Те, кто немножко помладше, с интересом и, безусловно, с пользой прочтут небольшие исторические повести «Земли разведчик» (о путешественнике Марко Поло), «О мастерах старинных» (изобретатели и умельцы послепетровских времён), «Повесть о художнике Федотове». А в качестве эпиграфа к будущему знакомству с теоретическими работами мэтра, можно привести всего несколько слов, сказанных когда-то Виктором Шкловским то ли в шутку, то ли всерьёз: «…я не учу писать, я им рассказал, что такое литература».
И.Линкова
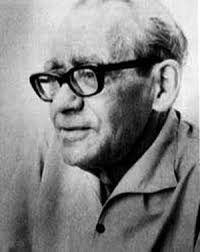
Типичная, к сожалению, ситуация: у себя на родине Рене Гийо — один из самых уважаемых детских писателей, лауреат множества премий, в частности — обладатель Международной Золотой Медали имени Х.К.Андерсена, автор более полусотни книг для ребят разного возраста, а у нас Рене Гийо — автор одной-единственной маленькой книжечки, переведённой в начале 1980-х, и ещё двух учебных адаптированных изданий для чтения на уроках французского.
Трудно судить, что мы потеряли от «непереводов» других книг. Можно только констатировать: повесть «Белая грива» очень трогательная и очаровательно старомодная. Конечно, не все мальчики 1900-го года рождения сумели остаться романтиками вплоть до второй половины XX века, но мсье Гийо это удалось. Конь у него в книжке безупречно белый, мальчик — добрый и смелый, хозяин — жадный и грубый, а последняя глава называется «Как в прекрасном сне». И это вам не какой-нибудь пластмассовый хэппи-энд. Это мальчик и прекрасный конь по-настоящему тонут в большой реке, уйдя от погони злых и несправедливых людей.
«…Вода тихо струилась по его лицу. Он [мальчик] закрыл глаза. Легко, как в прекрасном сне…»
И.Линкова

О волшебном нельзя кричать во весь голос. Нельзя дразнить «другое» и хватать неизведанное грубыми руками. Оно не простит. Может быть, самое поразительное качество Эрнста Теодора Амадея Гофмана заключалось в том, как виртуозно удавалось ему переходить из одного мира в другой, то проникая сквозь тонкую шкурку реальности в дебри невероятного, то возвращаясь назад — к мундирам, званиям, рождественским ёлкам, улицам городов и сельским пейзажам.
Как девочка Мари впервые почувствовала, что Щелкунчик — не просто кукла? О, это можно было вовсе не заметить, потому что только отблеск света пробежал по его выпуклым глазам, пробежал и тут же исчез. А крошка Цахес? Вот он, противный, мерзкий, злобный, бессловесный, кувыркается в зелёной траве, а мимо идёт фрейлен Розеншён, «барышня из близлежащего богоугодного заведения». Сразу сказать, что она на самом деле фея? Ни за что! Ещё всякие неожиданности будут случаться на нескольких страницах, ещё автор подробно поведает нам, какие великолепные розы умеет выращивать очаровательная фрейлен и какие у неё, к сожалению, проблемы с генеалогическим древом, и только потом — потто-о-о-ом! — мы, как будто ненароком, узнаем, что перед нами — «всемирно известная фея Розабельверда». И дело тут не в романтическом многословии двухвековой давности. Это просто способность удержать в луче света всё то, что люди привыкли называть тайной.
Герои Гофмана не умеют и не хотят прозябать «на поверхности». Оживают игрушки и даже овощи («Королевская невеста»); рукописи грамотного кота Мурра так перемешиваются с бумагами его хозяина, что одна и та же жизнь поворачивается вдруг разными своими сторонами; мечтательный Ансельм в сказке про золотой горшок без труда понимает, что золотистая змейка с голубыми глазами на самом деле — прелестная девушка Серпентина; и только один поэт Бальтазар способен сквозь любые чары разглядеть ужимки злобного Цахеса, потому что для поэтического взгляда на мир пределов нет.
И пределов во времени — тоже. Достаточно взять в руки сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король», которую проиллюстрировала Ника Гольц, и вам покажется, что прелестная сказка и невесомые, воздушные образы художника родились в один день.
И.Линкова

Начало переводческой деятельности Инны Стребловой сложилось еще в студенческие годы. Первый профессиональный перевод был осуществлен в соавторстве с Ф. Золотаревской и В. Кошкинымв 1962 году — роман «Катрина» Салли Сальминен (перевод со шведского языка) и два рассказа норвежского писателя Артура Омре.
Много переводила с английского, датского, немецкого, норвежского и шведского языков (Г. Брох, Э. Т. А. Гофман, А. Зегерс, И. В. Йенсен, А. Эленшлегер, Р. Хух и др.). Открыла для российских читателей нескольких зарубежных авторов, книги которых стали бестселлерами у молодежи: Э. Лу, К. Валла, С. Ларссона и др.
Особое место в творческой деятельности Инны Стребловой занимают переводы для детей.
Впервые авторские переводы сказок «Альбом крестного» и «Обрывок жемчужной нити» появились в 1969 году в двухтомном издании Х. К. Андерсена «Сказки и истории» (Ленинград, «Художественная литература»). В этом сборнике были напечатаны переводы Анны Ганзен и ее правнучки.
Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.




