
Василий Иванович Лебедев-Кумач (настоящая фамилия Лебедев) родился 5 августа 1898 года в Москве в семье сапожника-кустаря. Псевдоним «Кумач» появился после Октябрьской революции и был связан как с ярко-рыжим цветом его волос, так и с символикой того времени.
После окончания гимназии с золотой медалью в 1917 году поступил на историко-филологический факультет МГУ. Первые стихи были опубликованы в 1916 году в журнале «Гермес».
Наиболее известен как автор текстов популярных песен для советских фильмов:
-
«Весёлые ребята»
-
«Цирк»
-
«Дети капитана Гранта»
-
«Волга-Волга»
-
«Остров сокровищ»

Стать писателем Борис Алмазов захотел после встречи с Виталием Бианки. Ранние попытки создать нечто эпохальное окончились неудачей: «Мне вдруг открылась главная истина: прежде чем начать писать, нужно прожить большую жизнь, многих увидеть, запомнить, причём увидеть так, как не видел никто до тебя, нужно многому научиться, многое обдумать, постигнуть и понять и только тогда браться за перо. Поэтому в моей литературной деятельности наступил длительный перерыв».
Книгой, которая обратила внимание читающей публики на молодого литератора и принесла ему первый успех, стал сборник научно-художественных рассказов «Прощайте и здравствуйте, кони!» (вот она, памятная встреча с классиком!), отразивший любовь Бориса Александровича, сына донского казака, к лошадям и период службы в кавалерии. Теперь послужной список Алмазова насчитывает не один десяток книг (столь же не похожих друг на друга, как не похожи многочисленные увлечения петербургского писателя) и — больше ста песен, которые Борис Александрович исполняет под гитару.
А.Копейкин

Почему автобиографическая повесть Пантелеймона Романова долгое время не переиздавалась в Советском Союзе, в общем-то, понятно — бдительные цензоры усматривали в ней «идеализацию патриархальной России» со всеми вытекающими отсюда последствиями. А между тем, повесть эта легко встаёт в один ряд с лучшими произведениями русской литературы о детстве.
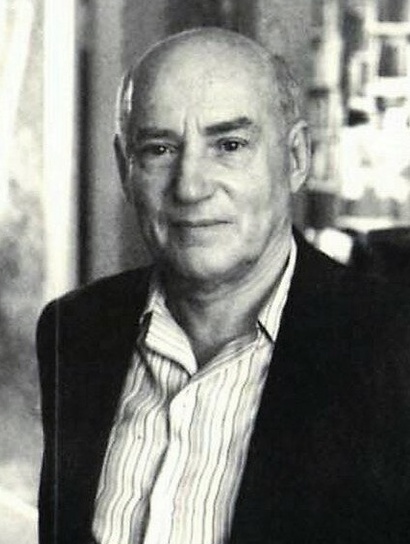
В фантастику приходят разными путями. Когда Сергей Снегов решил заняться литературным творчеством, за его плечами были двадцать лет сталинских лагерей.
Его арестовали совсем молодым (в 1936 году) и отправили на Крайний Север. Так подающий надежды учёный-физик, талантливый инженер с ленинградского завода «Пирометр» оказался на Норильском горно-металлургическом комбинате, где трудился рука об руку с Л.Н.Гумилёвым.
До 1957 года, работая в так называемой «шарашке», Сергей Александрович «принимал непосредственное участие в создании советского ядерного оружия». А выйдя на свободу, понял, что дорога у него теперь одна — писательская.
Но и в литературе он очень скоро оказался в «чёрных списках»: закалённый Севером Снегов, как и в молодости, позволял себе всякие «вольности», выражавшиеся в «отступлении от норм марксистско-ленинской философии». «И тогда мне пришла в голову идея заняться научной фантастикой, — на склоне лет вспоминал писатель, — единственным видом художественного творчества, которое само основано на иллюзиях и миражах и потому меньше подвластно цензурным запретам. Я написал первую часть романа, с вызовом названного мною “Люди как боги. Галактическая разведка”».
В известном смысле фантастика стала для Снегова способом уйти от реальности, обрести внутреннюю гармонию в мирах вымышленных, небывалых. Он не боялся дать волю своему воображению, и порой оно заводило его в далёкое-далёкое будущее. Он не считал зазорным развлечь читателя невероятными приключениями и поразить описаниями самых причудливых и разнообразных форм инопланетного разума. И хотя его книжки кажутся теперь несколько старомодными, кое в чём они нисколько не устарели, даже если актуальные мысли изложены в них чуточку пафосно: «В нашу эпоху, когда открыто множество разнообразных по форме и образу существования цивилизаций, человеку стыдно выдавать свой жизненный мирок за единственно приемлемый. Его земные обычаи годятся лишь для него, нечего их распространять за пределы Солнечной системы. Но разве человек не ощущает единство жизни во Вселенной, разве тысячи нитей не роднят его с диковинными существами иных миров? Это не общность деталей и внешности, нет, общность живого разума». Так говорит один из героев трилогии «Люди как боги», за которую в 1984 году Сергей Снегов был удостоен премии «Аэлита».
А.Копейкин

Это не ошибка: Александр Алексеев действительно французский художник. Но — приехавший из России. Точнее, уехавший. Он покинул родину в 1920 году совсем молодым и никому не известным, а перебравшись в Париж, оформил более сорока книг и стал одним из основоположников французской анимации.
Он изобрёл так называемый «игольчатый экран», который представлял собой множество «подвижных иголок, укреплённых на большой белой подвижной доске и отбрасывающих на неё тень в виде штрихов». Меняя длину штрихов, можно было добиться удивительного эффекта: получалось изображение, похожее на оживший офорт или гравюру. В такой уникальной технике сделаны все лучшие фильмы Алексеева: «Ночь на Лысой горе» (1933), пролог и эпилог к фильму О.Уэллса «Процесс» (1962), «Нос» (1963), «Картинки с выставки» (1972), «Три темы» (1980). Создатель «Ёжика в тумане» Юрий Норштейн и оскароносный Александр Петров («Старик и море») в один голос называют Алексеева своим учителем.
Ещё до войны он прославился как один из лучших художников-иллюстраторов Франции; именно тогда на него обратил внимание Александр Бенуа. Среди оформленных Алексеевым книг немало русской классики: «Повести Белкина», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Доктор Живаго»… «В иллюстрациях к “Доктору Живаго” ощущается запах мороза, запах шпал…», — говорил Юрий Норштейн. А сам Борис Леонидович Пастернак, незадолго до смерти увидевший французское издание своего многострадального романа, сказал, что мечтает о том, чтобы эти иллюстрации стали бы когда-нибудь известны и в России.
А.Копейкин

В университете её учителем был Михаил Иванович Стеблин-Каменский, корифей российской скандинавистики. Любовь Григорьевна вспоминала, что он был «совершенно замечательным преподавателем… Он великолепно знал поэзию скальдов, саги, и это лежало в основе его преподавания — была ли это история древней литературы, история Норвегии или другие дисциплины».
Суровая северная Норвегия на долгие годы так и осталась её любимой страной, хотя впервые побывать там ей удалось только в конце 1970-х. Поначалу Горлина переводила со всех скандинавских языков, но со временем осознала свою «специализацию» и всё чаще стала отдавать предпочтение именно норвежской литературе. С холодной Норвегией у Любови Григорьевны сложились самые тёплые отношения: переводчице даже присудили медаль Св. Олафа — за большой вклад в популяризацию норвежской культуры. Но на самом деле медаль ей должны были дать в России, ведь если бы не она, мы могли бы никогда не узнать и, что ещё печальней, не полюбить все те книги, которые стали «русскими» благодаря её кропотливому труду.
Прежде всего это книги Анны-Катрины Вестли. Вот уже полвека мы знакомы с самой славной и дружной на свете семьёй (ну, если не считать семейства муми-троллей, конечно), повесть о которой называется «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» (впервые она вышла по-русски в 1962 году).
Так иногда бывает: переводчик берётся за очередной заказ и вдруг понимает, что перед ним его книга и его автор. Впоследствии Горлина перевела и другие повести Вестли и даже встретилась с писательницей лично: «Когда приходишь к ней в гости, — с улыбкой рассказывала Любовь Григорьевна, — так и кажется, что в комнату вот-вот вбегут неотделимые от неё восемь детей, или Уле-Александр, или такса Самоварная Труба, потому что грузовик, хоть и является членом семьи, в гостиную просто не поместится. Но потом вспоминаешь, что героям этих книг уже за пятьдесят и взрослые люди так себя не ведут».
«Аврора из корпуса “Ц”», «Гюро», «Каос и Бьёрнар», «Олауг и Пончик», «Маленький подарок Антона»… Кроме Вестли, Горлина переводила прозу Астрид Линдгрен («Мы все из Бюллербю»), Туве Янссон (рассказы для взрослых), Турмуда Хаугена («Ночные птицы»), Юстейна Гордера («Дочь циркача», «Апельсиновая Девушка», «Таинственный пасьянс»), Веры Хенриксен («Корабль без головы дракона»), Турвалда Стеена («Исландская лошадка») и ещё многих-многих других шведов, норвежцев, датчан…
До последних дней она не теряла интереса к своей работе. За книгу для подростков «Солнце — крутой бог» Юна Эво Горлина получила специальную «цеховую» переводческую премию «Мастер» (2010). А в 2011 году мы рассказывали о другой работе Любови Григорьевны — исторической повести Йорна Риэля «Мальчик, который хотел стать человеком» (см.: ПОДРОБНО: Йорн Риэль. Мальчик, который хотел стать человеком). Эта книга появилась на свет не в Норвегии, её автор — датчанин, но, поскольку читаем мы всё равно по-русски, это обстоятельство мало что для нас значит. Если переводчик действительно мастер, то мы назовём своим другом писателя любой национальности.
А.Копейкин

Большое влияние оказал на будущего писателя его дядя – прозаик, поэт и художник Ю. И. Коваль (1938–1995). Отношениям с наставником посвящен очерк «Гусик (прозвище, данное племянником)», впервые напечатанный в сборнике воспоминаний о писателе («Ковалиная книга», 2013, стр. 109–119). Юрий Коваль стал старшим товарищем подростка, приобщил к живописи и литературе.
В ноябре 1991 года Дорофеев едет на книжную ярмарку в Мехико, столицу Мексики, вместе с другими членами редакции «Мурзилки» и женой. Супруга, актриса Г. Плакущенко, знала испанский язык и взяла на себя труд переводчика.
Вдохновленный новыми впечатлениями и удачной продажей картин, Дорофеев решает отложить возвращение на три месяца. Жилье супругам предоставила легендарная исполнительница фламенко Пилар Риоха (полное имя Мария де Пилар Риоха де Олмо, род. 1932), знакомая с Г. Плакущенко еще по гастролям в СССР. Танцовщица жила недалеко от центра города, в небольшом особняке с двориком. Благодаря ее друзьям удалось организовать первые персональные выставки Дорофеева и найти желающих приобрести его работы, а также заинтересовать журналистов из центральных газет Мехико.
Следующие десять лет, 1991–2001-е, Александр Дорофеев прожил в Мексике, ловил рыбу и лобстеров в море, подрабатывал выставкой-продажей и созданием на заказ картин разных жанров – пейзажей, натюрмортов, картин на библейские сюжеты и икон. За это время было написано почти пять сотен полотен и проведено тридцать персональных выставок. Мексика, как вспоминает писатель, «приветлива», в ней «легко осваиваешься со всем для тебя новым, включая испанский язык».




