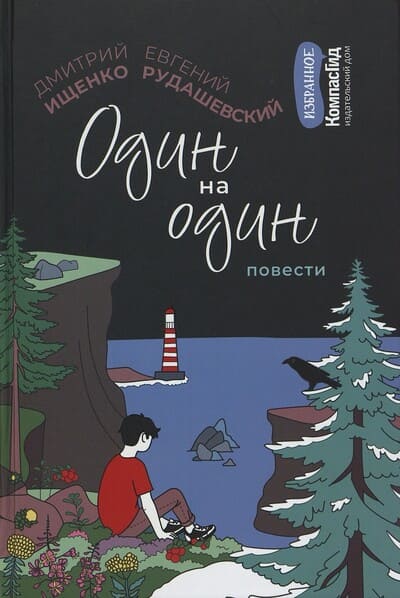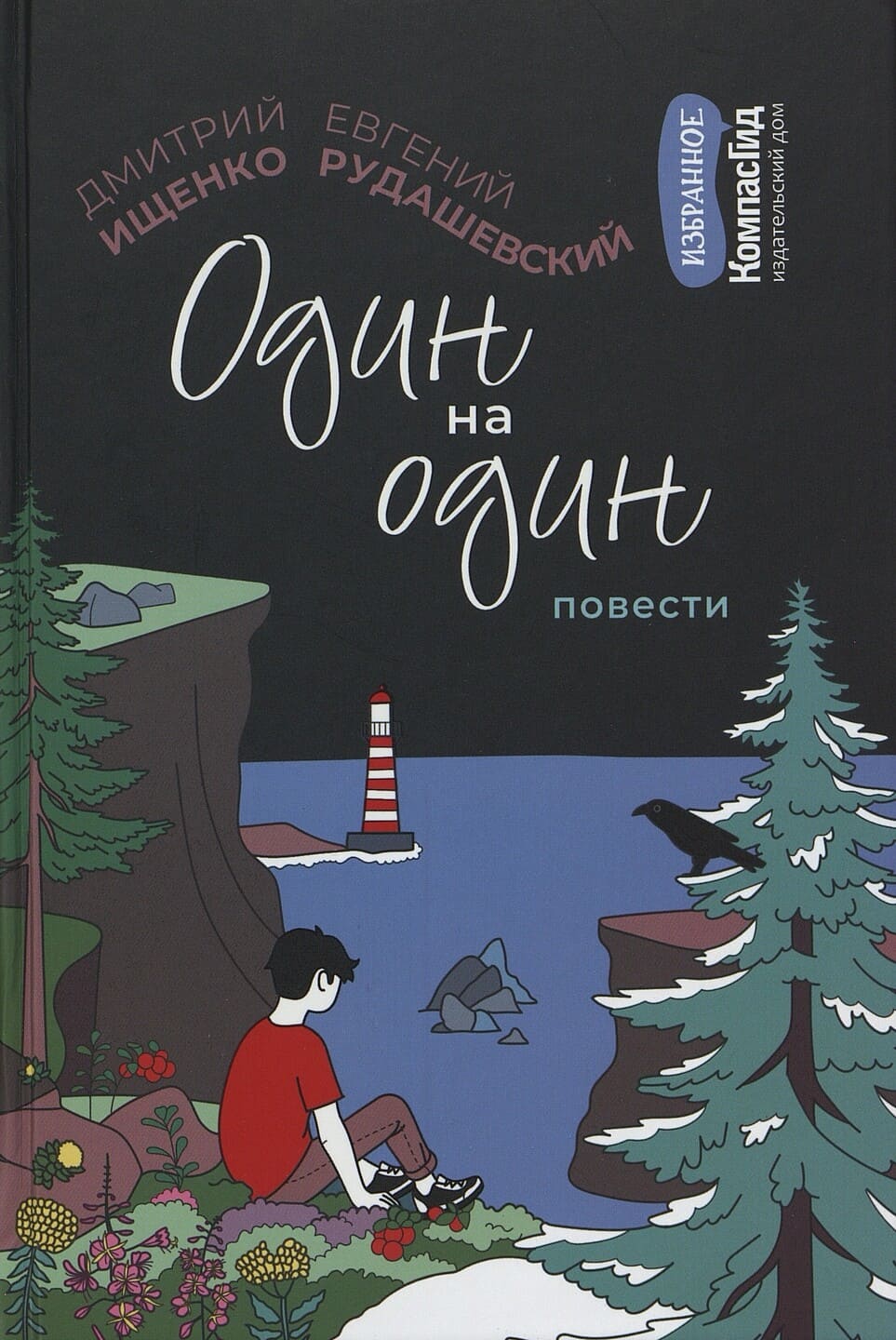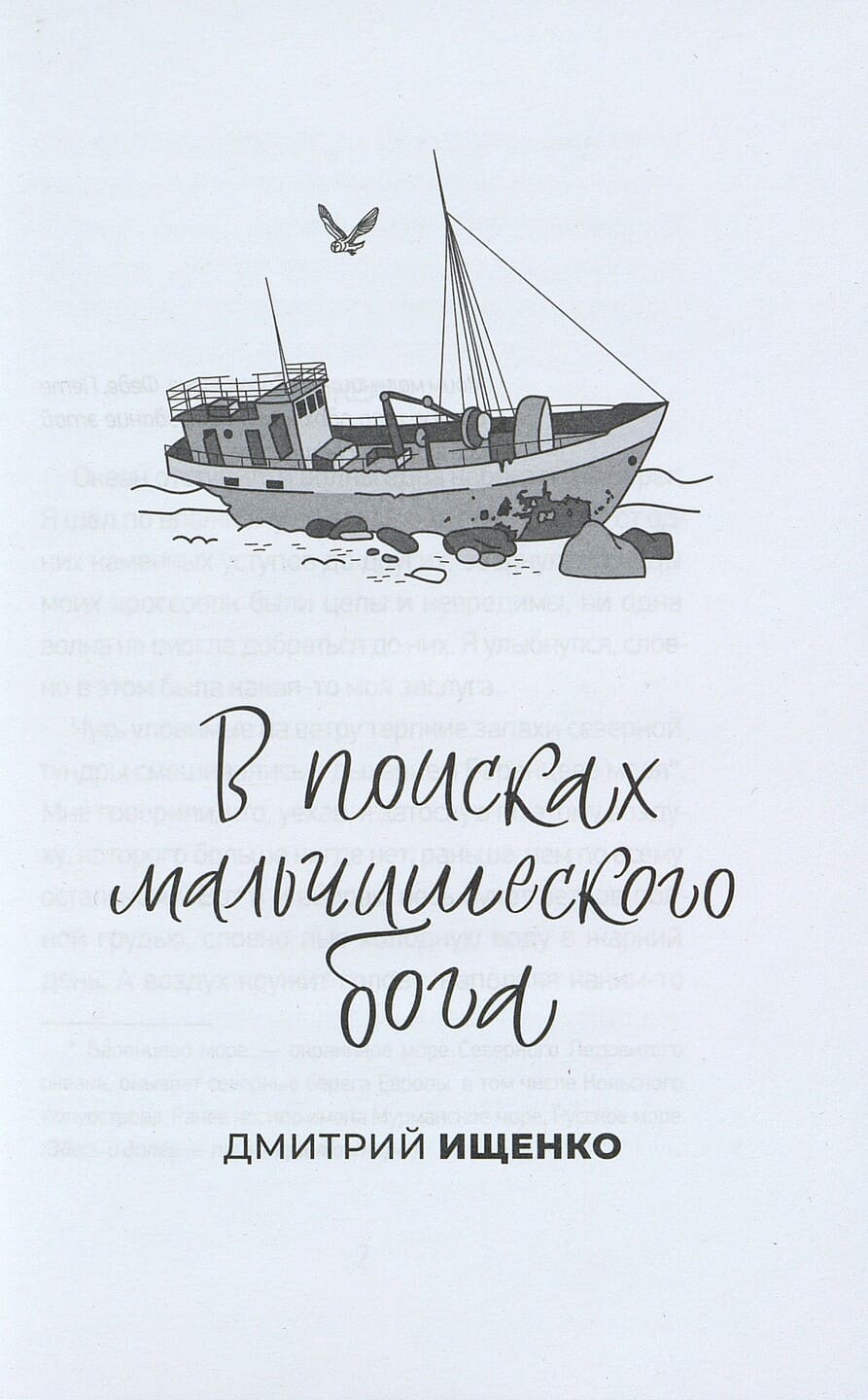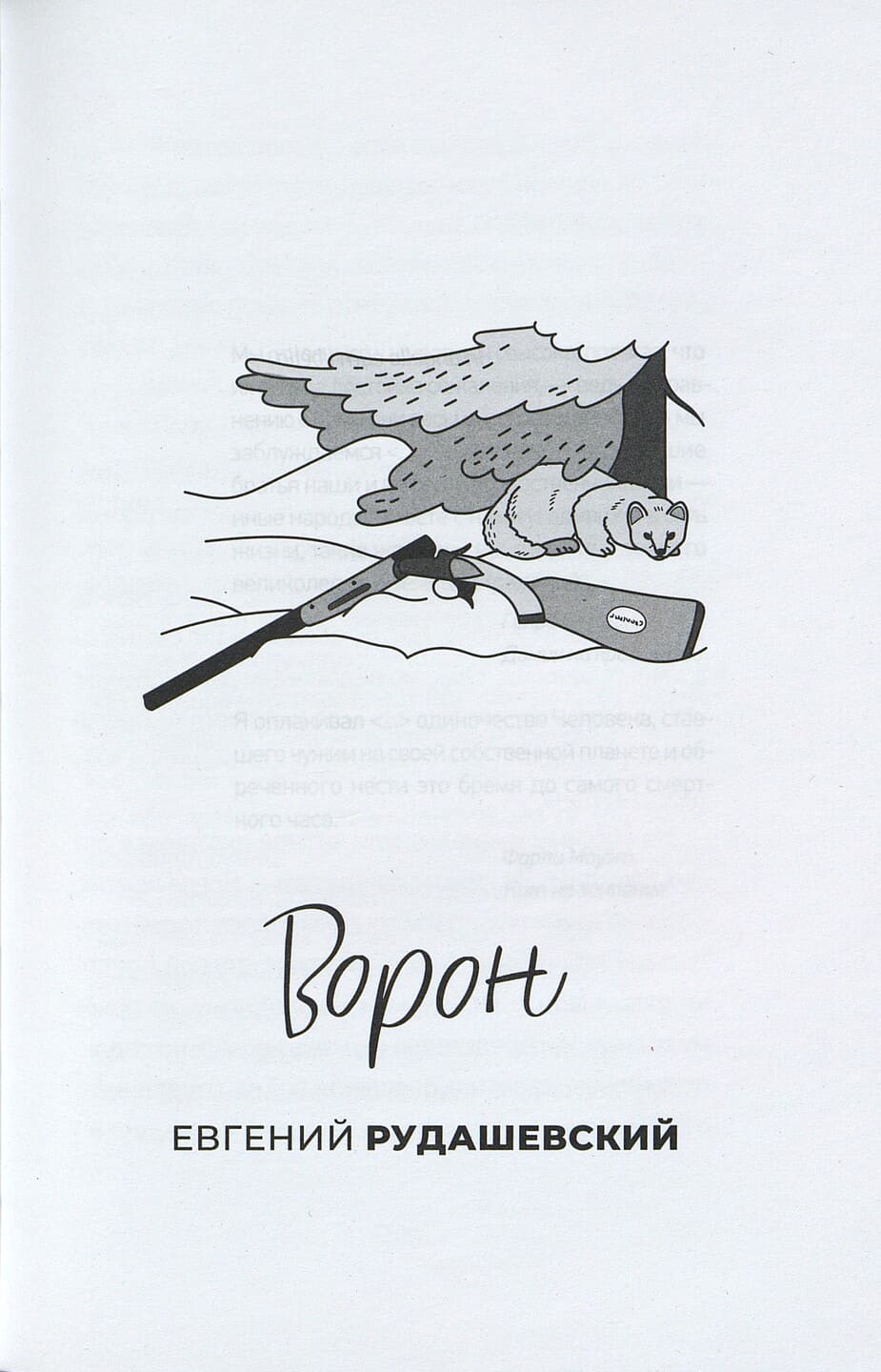Дмитрий Ищенко, Евгений Рудашевский. Один на один
Главные герои произведений Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского находятся в сложных отношениях с окружающими их людьми. Но чаще всего подростки остаются один на один — наедине с собой. В этом смысле название сборнику было выбрано очень точное. Ребятам предстоит не только научиться разбираться в людях, с которыми сводит их судьба, но прежде всего понять себя, определить свои взгляды, встать на правильный путь. Повесть Дмитрия Ищенко — дебютная для автора, в ней ещё виден поиск своего стиля. «Ворон» Евгения Рудашевского — одно из лучших его произведений. Но и в той, и в другой истории авторы сходятся в главном: подростковый возраст — это ключевой период в формировании жизненной позиции и определении своего места в жизни.
«Переходный возраст — это дело серьёзное, — говорит отец Ивану, герою повести “В поисках мальчишеского бога”. — Переходный — от слова “переходить”. Дорога неблизкая. Сам понимаешь». На летние каникулы он берёт сына с собой на Кольский полуостров, где работает гидрографом. Станция расположена на самой северной его оконечности, там, где находятся полуострова Средний и Рыбачий. Об одном известно из знаменитой поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста» («Вот какая история про славные эти дела на полуострове Среднем рассказана мне была…»). Второй увековечен в песне поэта-фронтовика Николая Букина, воевавшего в тех местах: «Прощайте, скалистые горы» («Растаял в далёком тумане Рыбачий, родимая наша земля»). Суровая земля, на которой испокон веку жили и за которую сражались мужественные люди.
Дмитрий Ищенко, Евгений Рудашевский. Один на один
«Север — это вам не бока греть на пляже, молодой человек…» — в справедливости этих отцовских слов Ване вскоре предстоит убедиться самому. Из привычного комфортного мира большого города герой попадает буквально на край земли, в арктический неласковый климат, в аскетический быт почти без намёков на блага цивилизации. Никаких тебе интернетов, микроволновок и стиральных машин. Носки приходится стирать прямо в Баренцевом море, а без должной сноровки штормящая волна эти носки вырывает из слабых пока ещё рук и уносит в бескрайнюю даль. Ваня с трудом привыкает к образу жизни работающих здесь людей: геологов, гидрографов, военных. Но вскоре он начинает находить особую прелесть в этой жизни: «До неё всегда можно было дотронуться рукой, минуя стекло компьютера, попробовать на ощупь, внимательно разглядеть и оценить. Я открывал мир заново, с каждым шагом раздвигая его границы».
Поначалу Ваня только наблюдает суровую северную природу, но потом активно включается в жизнь, в которой на самом деле происходит много всего интересного. Приключения следуют одно за другим. Вот мальчик стал свидетелем охоты на дикого оленя и испытал ужас городского человека, который до этого момента мало задумывался о том, откуда берутся вкусные сосиски и котлетки в бургерах. Оказывается, за эти вкусности платят жизнью животные. Вот он кормит с руки ручного оленёнка, и сердце мальчишки сжимается от хрупкости чужой жизни и доверчивости маленького беззащитного существа. Вот его побили матросы-срочники — несильно, но унизительно, и это тоже новый опыт для горожанина. Вот Ваня исследует заброшенный корабль. Вот вместе с отцом рассматривает знаменитые кольские петроглифы — древние наскальные рисунки. Вот любуется сейдами — причудливыми скалами, священными для местных жителей, саамов.
Вместе с новым приятелем Мишкой герой повести попадает в подземный командный пункт времён Великой Отечественной войны. Ребята оказываются там замурованными, но благодаря выдержке и сообразительности Мишки им удаётся освободиться. Их обнаруживают отцы вместе с морскими пехотинцами, и Ваня выслушивает справедливую отцовскую отповедь: «Парни, запомните навсегда: в мужской жизни все правила написаны кровью и горьким опытом. За ними — судьбы сотен людей». Потом будут настоящие боевые учения на Северном флоте, когда мальчишки под руководством морпехов впервые в жизни смогут пострелять из настоящего автомата и даже принять участие в уничтожении старых боеприпасов. Три месяца на Кольском полуострове оказались для Ивана временем взросления, открытия настоящего, не цифрового мира, обретения новых друзей. Он всем сердцем полюбил этот угрюмый на первый взгляд край, в котором оказалось столько неповторимой красоты. Уезжая в конце лета домой, Ваня мечтает вернуться сюда снова.
В начале повести радист Борис говорит Ване: «Тебе надо найти своего мальчишеского бога. У каждого настоящего мальчишки он должен быть, сколько бы ему ни было лет. Пока у тебя есть запал совершать открытия, искать, открывать неизведанное, значит, он с тобой. Значит, ты ещё мальчишка, готовый идти вперёд, как бы трудно ни было. Но его обязательно надо найти. Чем раньше, тем лучше». Этот «бог» может выглядеть как угодно, главное, чтобы он «пробуждал в тебе силу, любопытство и надежду». Для самого Бориса мальчишеский бог — «в стихах, музыке и гитаре». Герой повести ещё в самом начале своего поиска. Но ясно одно — этот талисман будет связан с суровым и прекрасным краем, его мужественными людьми, с морской стихией, с маяком на скалистом берегу, который будет светить теперь Ване и в его городской жизни.
иллюстрации Алёны Зайцевой
В повести «Ворон» Евгений Рудашевский продолжает тему отношений человека и природы. Впервые он обратился к ней в дебютной лирико-философской повести «Здравствуй, брат мой Бзоу!» и последовавшей за ней приключенческой повести «Куда уходит кумуткан». В каждом из этих произведений подросток должен сделать непростой нравственный выбор, от которого зависит жизнь бессловесного существа. В первой повести это дельфин, во второй — байкальские нерпы, в «Вороне» четырнадцатилетний подросток в финале ощущает себя ответственным за судьбы всех окружающих его зверей и птиц, всей природы. Но для этого ему предстоит пройти тяжёлый, трагический даже путь взросления, перерастания инфантильных, беспечных представлений о мире. Диме в этом смысле повезло: дядя берёт его на настоящую охоту в компанию бывалых звероловов.
Дима, как и большинство его сверстников, воспитан на компьютерных играх и не имеет представления о ценности жизни — что человека, что животного. Поэтому поначалу для него поездка — это экзотическое приключение: «Всю осень Дима мечтал отправиться по соболиному следу, выстрелить в пушистого зверька и поднять его мягкую тушку. Был уверен, что охота станет посвящением во взрослую жизнь. Хотел, подобно дяде Коле, чувствовать себя хозяином тайги». Действительность, однако, оказалась совершенно иной. Смерть животных от охотничьих рук, их страдания переворачивают душу подростка. С глубоким психологизмом описывает Рудашевский всё, что происходит в этой душе. Смятение, вызванное цинизмом дяди и его приятелей, которые хладнокровно расправляются с дичью, не обращая никакого внимания на страдания животного, сменяется глубоким отвращением к охоте, растущим протестом против издевательства над «братьями меньшими».
От внутреннего протеста мальчишка переходит к решительным действиям, всячески препятствуя охотникам учинить расправу над вороном, который повадился воровать запасы. Накал страстей нешуточный: раздосадованные неудачами в охоте мужики в ярости способны на непоправимые действия. Но Дима уже не тот наивный паренёк, восторженно смотрящий на матёрых промысловиков, каким он был в начале повествования. Он готов постоять за себя и свои убеждения, сформированные в результате трудных размышлений и наблюдений. Он проходит тернистый путь инициации, посвящения мальчика в мужчину. А настоящий мужчина и вообще взрослый человек не станет предъявлять претензии всему миру в несовершенстве, а попытается понять, пожалеть и простить другого. И вот уже Дима, ещё недавно буквально ненавидящий дядю и его приятелей за жестокое убийство соболя, пытается понять причины этой жестокости и — не оправдать её, нет! — проявить сочувствие к их несчастливым судьбам.
Это уже позиция не ребёнка, а взрослого, сильного духом и щедрого сердцем человека: «В общем-то, они все не такие плохие. Даже дядя… Обыкновенные люди. Нет, не плохие. Просто у них не было шанса стать хорошими. Жизнь от них спрашивала другое. Им приходилось отвечать. И не было сил о чём-то думать». Продолжается душевный рост героя. Он осмысливает теперь роль отношений человека к природе и понимает, что не имеет никакого права господствовать над нею. Помогает ему в этом найденная в охотничьей избушке книга Генри Бестона, одного из самых любимых писателей Евгения Рудашевского. Цитата из «Домика на краю земли» стала эпиграфом повести: «Мы относимся к животным свысока, полагая, что их судьба достойна сожаления, — ведь по сравнению с нами они весьма несовершенны. Но мы заблуждаемся. Животные — не меньшие братья наши и не бедные родственники, они — иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий».
иллюстрации Алёны Зайцевой
Дима читает эту книгу и другим взглядом смотрит на мир: «Земля ожила тысячью ямок звериных нор, отнорков, каналов. Лес спал, а с ним спали его птицы, насекомые, растения. От этой мысли Диме стало спокойно. Впервые тайга показалась ему такой же уютной, как и зимовье. Она тоже была домом. И не таким уж большим, если посмотреть на холодные просторы космоса вокруг. “Уютный, тёплый дом — планета, — подумал юноша. — Со своими грязными углами, протёкшей крышей, щелями в полу. Но всё-таки дом. Единственный. И другого не будет”». Это и есть признак подлинного взросления — ощущение мира как собственного дома, о котором нужно заботиться, который нужно беречь, а себя — частью единого целого. Вот это ощущение кровной связи со всем живущим рядом с тобой на планете, которое отсылает к знаменитой фразе из «Книги джунглей» Р. Киплинга: «Мы одной крови — вы и я», — делает жизнь осмысленнее, полнокровнее и счастливее.
Инициация, как посвящение во взрослую жизнь, лежит в основе и народной волшебной сказки, и любого авторского произведения о подростках. Герой проходит череду испытаний, и часто дорога его в «тридевятое царство», где ему предстоит сразиться с врагом или выполнить иную трудную задачу, лежит через дремучий лес. В повести «Ворон» лес является не просто преградой для героя или фоном для его душевного роста, лес здесь — и средство и цель внутреннего преображения героя. Ощутив своё родство с лесом как сложнейшим организмом, состоящим из живых и неживых (формально) сущностей, Дима понимает, по какой жизненной дороге предстоит ему шагать. И это главное открытие, сделанное им в результате душевных потрясений и испытаний: «В зимовье он возвращался с улыбкой. Думал о том, что хочет знать как можно больше о природе, но не для того, чтобы владеть ею. Власть — это всегда одиночество. Знать, чтобы понимать и самому становиться больше, окружая себя чудесным разнообразием жизни».
Эти поиски себя, своего предназначения — магистральная линия существования любого подростка. И тот, кто этот путь вовремя не прошёл, кто не задавал себе в 14-15 лет (а кто-то и раньше) вопросы: «Для чего я живу? Чего хочу добиться в жизни?» — рискует прожить дальнейшие годы подобно бездумному растению. Каждый из авторов этой книги по-своему освещает эту важнейшую тему. Повесть Дмитрия Ищенко местами кажется излишне назидательной и прямолинейно-дидактической. Повесть Евгения Рудашевского в этом смысле тоньше и искуснее, но и в той, и в другой истории авторы сходятся в главном — в восприятии подросткового возраста как ключевого в определении жизненной позиции и своего места в жизни. Оба автора убеждены: полноценная личность формируется не в виртуальной реальности, а в «мире, открытом настежь бешенству ветров» (Эдуард Багрицкий). И если на этих ветрах юного человека немного потреплет, тем ценнее приобретённый опыт, тем больше шансов, что мальчик сможет с достоинством пережить дальнейшие вызовы судьбы.
Ищенко, Д. Один на один : повести / Дмитрий Ищенко, Евгений Рудашевский ; илл. Алёны Зайцевой. — Москва : КомпасГид, 2024. — 352 с. : илл. — (КомпасГид. Избранное).