Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (с иллюстрациями Д. Шмаринова)
Серия «Классика Речи» насчитывает уже не один десяток томов. Её наполняют произведения общеизвестные, можно сказать, хрестоматийные — не обязательно из школьной программы, но, в любом случае, как явствует из названия, классические.
Это не просто очередное издание текстов — зачем, если подавляющее большинство их легко можно найти в интернете? У издателей иной замысел: с одной стороны, книги серии призваны составить основу домашней библиотеки всякого любящего читать интеллигента, с другой — перед нами очевидная попытка приблизить классическое наследие к молодому читателю. Способ избран не самый оригинальный, однако всё ещё действенный, при этом лишённый и намёка на заигрывание с «подрастающим поколением»: классические тексты приводятся в изначальном виде, без сокращений и адаптации, но — в сопровождении классических же иллюстраций, иногда весьма многочисленных. Так в нашем читательском обиходе снова появились пушкинский «Евгений Онегин» с рисунками Николая Кузьмина, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя в интерпретации Алексея Лаптева, двухтомник А. П. Чехова с Кукрыниксами, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского с иллюстрациями Дементия Шмаринова…
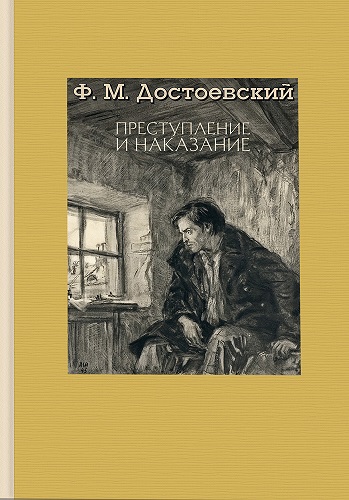 Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : роман в 6 частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский ; иллюстрации Д. А. Шмаринова ; [примеч. Б. Н. Тихомирова]. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 512 с. : ил. — (Классика Речи).
Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : роман в 6 частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский ; иллюстрации Д. А. Шмаринова ; [примеч. Б. Н. Тихомирова]. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 512 с. : ил. — (Классика Речи).
Иллюстрировать классиков нелегко. Пушкин высмеял первые рисунки к «Евгению Онегину» и был прав. Уже тогда стало ясно, что нельзя просто изображать героев и героинь в картинных позах на фоне городского или сельского пейзажа. Тенденция эта, тем не менее, держалась очень долго. Гоголю, кажется, повезло чуть больше: помогала яркая характерность персонажей, гротеск и фантастичность, допускавшие некоторый полёт воображения в рисунке. Правда, чаще всё сводилось к созданию «гоголевских типов».
Особенно трудно пришлось художникам, когда отголоски романтизма в литературе исчезли, и нечего стало изображать, кроме обыденной жизни и душевного состояния обыкновенных людей. Тут уж ни снежных вихрей, ни всадников в горах Кавказа, ни даже барской усадьбы с заросшим садом…
Поворот произошёл в начале XX века с появлением художников «Мира искусства» и Д. Кардовского. Акварели А. Бенуа к пушкинскому «Медному всаднику», рисунки М. Добужинского к «Белым ночам» Ф. Достоевского открыли новые возможности книжной графики; оказалось, что героем может быть не только персонаж, но и сам город; что иллюстратор может передать атмосферу действия, движение, даже ритм прозы или стиха. Д. Кардовский, соединив знание быта, иронию и изящество, создал непревзойдённые образы гоголевского «Ревизора», «Невского проспекта», грибоедовской комедии «Горе от ума», чеховской «Каштанки».
Д. Шмаринов — художник другого времени, но он был учеником Д. Кардовского. Удивительное совпадение: Кардовский родился в 1866 году, когда был опубликован роман Ф. Достоевского.
Перед молодым художником Дементием Шмариновым стояла невероятно трудная задача.
Автор «Преступления и наказания» не даёт пощады ни себе, ни читателю. Жизнь самая убогая, судьба неумолимая вынимают душу из человека.
Художнику, который решается работать с текстом «Преступления и наказания», некуда спрятаться. Он должен пройти вместе с героем весь его страшный путь до конца; передать душевное напряжение, которое сказывается не столько в действии, сколько во внутренних монологах и диалогах с другими лицами. Но сначала надо увидеть этого молодого человека, который, впрочем, «был замечательно хорош собою»; увидеть место действия: не просто Петербург, а тот самый город доходных домов и дворов-колодцев, тёмных лестниц и подворотен, клетушек, более похожих на шкаф, где только и мог зародиться болезненный замысел Раскольникова.

Шмаринов видит всё это. Он рисует, подчиняясь авторскому голосу, следуя по пятам за героями по булыжнику мостовых, по выщербленным ступеням лестниц; заглядывая в дверь старухи-процентщицы… Странное, какое-то мужское лицо у неё; такие лица могут в бреду привидеться, хотя происходит всё совершенно наяву; дверь с оборванной обивкой, и звонок висит; дёрни — и звякнет колокольчик… Всё реально до мельчайших подробностей и в то же время призрачно — именно так, как пишет Достоевский. Контуры пространства и фигуры очерчены углём и наполнены растушёванной чёрной акварелью: лучше не придумаешь для изображения неровных стен, нависающих потолков, сумрачных улиц и закоулков под сводами.
И тут начинается какое-то странное колдовство: высокие мрачные дома с водосточными трубами; выход к Неве из-за угла; панорама набережной, мощённой камнем, всё, изображённое на шмуцтитулах, как будто хорошо знакомо. Это — образы Петербурга «Белых ночей» в дивных рисунках Добужинского. Вот только прозрачный и светлый воздух потемнел и сгустился; тьма затаилась в углах дворов, дома закрыли небо. Город тот же, да времена не те, и нет здесь больше места мечтателям.

Слабый, какой-то робкий свет иногда рассеянно освещает то крыльцо, то ворота дома, то озаряет лица героев. Свет становится теплее, когда горит свеча в руке у Сони. Может быть, она и сама светится «каким-то ненасытимым состраданием». Пройдя вместе с героями через все муки, что им были суждены, в эпилоге романа художник увидел их на берегу реки, под высоким небом с клубящимися облаками. Неподалёку сидит часовой с ружьём, но это ничего, ведь «история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его» только начинается.

Самое удивительное, что рисунки эти были сделаны в 1935 году. «Эпоха великих строек» и борьбы с «религиозным дурманом» не отозвалась в работе ни одним штрихом. Со страниц книги дышит Петербург Достоевского. Художник шёл самым трудным путём, глядя на происходящее в романе не со стороны, а изнутри, пропуская всё через свою собственную душу. Отсюда предельная наполненность и глубина при внешней сдержанности; точно найденные черты героев, их позы и жесты. Событие не показано буквально, но отражается на лице, в глазах, в душе. А ведь одно только это и важно.

