Александр Етоев. Правило левой ноги
Етоев А.В. Правило левой ноги: Фантаст. повесть / Худож. И.Козуб, О.Яхнин. — СПб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2007. — 160 с.: ил. — (Детгиз в квадрате фантастики).
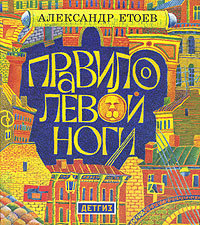
Исследователи детского чтения — библиотекари и литературоведы — уже не раз отмечали, как сильно оно изменилось по сравнению с чтением предыдущего поколения. Массовое книгопотребление сегодняшних детей мало в чём соответствует кругу чтения их родителей, когда те были маленькими. В частности, из этого круга «ушли» произведения крупной формы — научно-фантастические и приключенческие романы, особенно с познавательной составляющей (Ж.Верн, А.Р.Беляев, В.А.Обручев и т.д.).
Но Александр Етоев, бывший, очевидно, усердным читателем фантастики, никак не может смириться с тем, что современные дети довольно прохладно относятся к соответствующему типу литературных произведений. Имея, между прочим, все задатки и способности «реалиста», он, тем не менее, пишет для детей фантастические повести — в лучших, то есть ретроспективных традициях.
Етоев обращается к современным детям, но никак не хочет понять, что дети нынче не те, что прежде.
В повести «Правило левой ноги» упоминаются «компьютерные игры-стрелялки» и «саблезубые монстры», тысячеевровые бумажки и условные единицы, в разговорах встречаются слова «отпад», «тачка ценой в пол-лимона баксов» и «поколбасился». Однако общее настроение книги то и дело отсылает читателя к веку минувшему.
Характерно, например, что мальчика зовут Андрюшей. Какой нынешний шестиклассник позволит называть себя таким унизительным, сюсюкающим имечком!
Мама у ребёнка работает в библиотеке, а папа — в пожарной охране Эрмитажа, и оба чуть не каждый вечер ходят на концерты в филармонию, а потом обсуждают вокальное мастерство солистов… Образцово-показательная семья, только что сошедшая с советского плаката!
Мальчишка двенадцати лет проводит время за игрой «Охота на крокодила», а вовсе не за компьютером. Рассматривание железной трубочки для него гораздо интереснее, чем телевизор и прочие радости жизни, которым можно предаться в отсутствие родителей. Мысль о возможной продаже ценной находки совершенно не приходит ему в голову. Это же уникальный ребёнок! Таких, как он, — один на миллион! Однако Етоев пишет о нём как о самом обычном, типичном подростке.
Приятель Андрюши, тоже самый обыкновенный, увлечённо и внимательно читает роман Г.Уэллса «Первые люди на Луне» и в подробностях помнит принципы управления фантастическим летательным аппаратом. Прямо скажем, на современных подростков эти правильные мальчики не очень-то похожи. Скорее, это дети семидесятых годов, искусственно перенесённые в наши дни.
Етоев идеализирует и положительных персонажей, и окружающий мир, что в некотором смысле вредит художественной правде. Уж очень наивным и, мягко говоря, несовременным человеком надо быть, чтобы утверждать, будто в Эрмитаже «напряжение поля негативных человеческих чувств — жадности, например, — приближается к нулевой отметке».
Из текста совершенно ясно, что автор смотрит на жизнь и быт так, как привык смотреть когда-то — в нежном возрасте. Покупка пирожных к кофе для него почти непозволительный расход, «фирменный телевизор “Филипс”» — бог весть какое сокровище, а кока-кола — редкое праздничное угощение!
В самом деле, ну нельзя же предполагать, что современный мальчик видит салат «оливье» и кока-колу только по праздникам! А нефирменных телевизоров дети, родившиеся после 1990-го года, попросту не знают.
О повседневной жизни сегодняшнего питерского мальчишки Етоев имеет весьма приблизительное представление и при попытке выйти на современность попадает впросак. Характерный эпизод: три злодея пытаются разыскать Андрюшу в «увеселительных заведениях», а именно — в молодёжных кафе и на дискотеках! Что за нелепость? Ясно же, что мальчики одиннадцати-двенадцати лет обедают дома и не получают карманных денег на посещение кафе; ещё более очевидно, что такому малышу нечего делать на дискотеке — его туда просто не пустят! Да и если подойти к проблеме с точки зрения здравого смысла — где же искать шестиклассника в октябре месяце, как не в школе, и что мешает подкараулить его вблизи одного из немногих учебных заведений района?..
Доходит до смешного — только не в том смысле, в каком хотелось бы писателю. «Салют! — сказал Серёжа Овечкин, хлопая товарища по плечу. — Выглядишь как жертва маньяка. С предками успел поколбаситься?» Вот вам и ситуация, вот вам и речевая характеристика! Сегодня у мальчиков не принято хлопать товарищей по плечам; слово «салют» как приветствие давно пора снабдить пометкой «устар.», а уж глагол «колбаситься» вовсе не употребляется в значении «ссориться, конфликтовать».
С языком и стилем у Етоева вообще творится что-то неладное. То и дело он «загибает» всякие тяжеловесные фразочки и злоупотребляет вычурными образами. Он никогда не напишет, что ребёнок «вот-вот расплачется», но непременно выдаст что-нибудь вроде: «…ещё одно слово, и глаза его станут лужами, полными солёной воды». Воля ваша, а я не вижу ни глубины, ни юмора в конструкциях типа: «Страусиное яйцо головы было самой главной достопримечательностью в его диковатом облике». Или: «В серых каплях рукавицынских глаз замерцали две лесные гнилушки». Стремление выразиться «позаковыристей» приводит и к грамматическим несуразностям, как, например: «скромной, миниатюрной трубочки (так!) было не мудрено (так!) не заметить».
Желая быть детским писателем, Етоев сплошь и рядом промахивается мимо возраста своего героя и, соответственно, читателя. По-прежнему шутки для старших и шутки для младших у него не пересекаются: взрослым неинтересно читать про «первую пельменю с тарелки», а детям не очень понятно, зачем «художник Шагин возлагает букет полевых цветов на могилу писательницы Шагинян».
По книге Етоева разбросано огромное количество явлений, предметов и персонажей, которые, казалось бы, должны быть интересны любому мальчишке: золотой петушок из сказки Ирвинга — Пушкина, техническая суперштучка в виде подзорной трубочки, межпланетные перемещения, «форд-амфибия» из среднестатистического кино «а-ля джеймсбонд», летательный аппарат из романа Уэллса, криминальный «предприниматель», маргинальный сантехник, мемуары Ната Пинкертона, волшебный саквояж из кожи Орнитоптерикса (настоящий), штаны Бориса Гребенщикова* (частично подлинные), шляпа Мишки Япончика (поддельная), коммунальная квартира как непознанный мир… Но привлекательность доброй половины этих мотивов относится, опять же, к тем временам, когда мальчишки среднего школьного возраста мечтали о покорении космоса, записывались в кружки и зачитывались журналом «Юный техник». Стандартные же мотивы современных «фэнтезюх» — не слишком умные, но приемлемые для нынешних книгопотребителей, — подаются Етоевым исключительно в ироническом ключе (монолог Серёжи о «Канделябре Власти»). Устаревший антураж повести в сочетании с ехидством в адрес «принца Клопомора» мгновенно переводит книгу в разряд «ретро» и отвращает от неё значительную часть потенциальной читательской аудитории.
Нельзя сказать, что Етоев пишет «левой ногой», — он всё-таки по-честному действует в рамках своих представлений о художественности. Грешно было бы усомниться и в наличии у него «золотого сердца»; совершенно очевидно, что он пишет для детей не ради заработка, а по велению души. И всё-таки, не следует ли человеку определиться? Или он пишет о нынешних временах — и тогда ему следует изучить современный детский мир, или сочиняет ретроспекции — и тогда не стоит заигрывать с современностью. Смешивать же идеальное прошлое со злобой нынешнего дня, затевать новую игру, не отказавшись от старых правил, — заведомо невыигрышный ход.
Мария Порядина
* - внесен в реестр иностранных агентов

